 |
 |
Китаева Н. Аргументы и факты. – 2002. Апрель (№16)
Над этим участком дороги бригада дорожных строителей билась уже третью неделю. Вокруг только бескрайние болота и 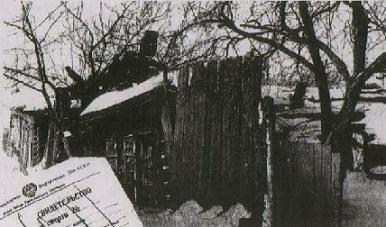 назойливые комары.
назойливые комары.
- Как будто застряли, из кожи вон лезем, а кажется, что стоим на месте, скорее бы…
Пронзительный крик заглушил на время не только гнетущие мысли, но даже рев бульдозеров:
- Мужики! Здесь же кости!
Кажется, что самой природой Кулайские болота были задуманы как гиблое место. Почти 500 километров к северу от областного центра – сплошные топи вперемежку с редкими перелесками. Человек, сюда без оружия, теплой одежды, запаса продуктов, компаса и карты почти не имеет шансов на выживание. Впрочем, сегодня люди здесь редкие гости. А еще каких-нибудь 60-70 лет назад все было иначе. Именно в этих, абсолютно не пригодных для жизни краях, существовала печально известная Кулайская спецкомендатура – поселение для высланных из Омска и его окрестностей кулаков. С Кулая не вернулся никто. Непроходимое болото похоронило останки людей.
Для земледелия здешние места по определению непригодны. Брать с собою домашний скот или какую-то утварь поселенцам было строжайше запрещено. Едва ли не единственной пищей служил хлеб, привозимый с «большой земли» в расчете 6 килограммов на человека в месяц.
В руки Тарского краеведа Леонида Перевалова несколько лет назад попал без преувеличения страшный документ – заключение комиссии, инспектировавшей Кулайское поселение летом того же года. В документах, подписанных комиссией, помимо всего прочего сказано: «Значительную часть ржаной муки составляют примеси толченой березовой коры и всевозможных трав. В силу того хлеб получается несъедобным и не питательным (образцы прилагаются) и вредно отзывается на желудке. Всевозможные травы, в том числе и несъедобные, примешиваются и в роли овощей в супы. Вследствие окружающей избушки грязи, скученности народа, пользования общими нарами в жилищах повсеместная грязь и сырость. По акту медпунктов за март-апрель 1930 года среди ссыльных наблюдались легочные заболевания, простуда, скарлатина, корь, превалируют простые и кровавые поносы детей и взрослых, вздутие живота, опухоли тела, конечностей. Увеличилась смертность из-за недоедания. Особенно остро стоит вопрос с грудным вскармливанием. Наблюдается общее явление – отсутствие молока у матерей. Отсутствие в районе коров лишает детей поддержки. Отмечается массовая детская смертность».
Кстати, все 22 поселка при полном бездорожье обслуживал единственный фельдшер. Да и тот, страшно сказать, должен был оказывать платную медицинскую помощь.
В марте 1930-го на Кулай было отправлено 8891 человек. К моменту обследования комиссии в поселении оказалось всего 1707. остальные, сделали вывод инспектировавшие, «самовольно бежали». Под этой формулировкой, очевидно, скрывается факт массовой гибели людей.
Охранялась территория Кулайской спецкомендатуры, как и другие подразделения ГУЛАГа, отменно. Правда, задачу в данном случае значительно облегчали природные условия. Место для ссылки было выбрано безошибочно. Здесь не надо было расстреливать, тратить патроны и думать, куда спрятать трупы. Рано или поздно раскулаченные должны были погибнуть от голода, холода и невыносимых условий. Трехкилометровое непроходимое болото в теплое время года изолировало поселенцев от внешнего мира, делая побег почти невозможным. Летом утонешь, зимой замерзнешь. Бежать, без сомнения, пытались, но из тысяч это удавалось единицам. Да и потом, куда бежать? В родную деревню, откуда сослали и где в случае возвращения непременно «сдадут»? историки предполагают, что те, кому чудом удалось обойти болотные топи и выбраться на дорогу, теоретически могли спастись, затерявшись на какой-нибудь из многочисленных строек социализма. В родные места не вернулся никто.
Все относящиеся к этому периоду документы хранятся в государственном архиве Омской области. Дата официального закрытия спецкомендатуры не значится ни в одном из них. Неизвестно и то, сколько всего людей было сослано в Кулайские болота. Точная цифра – те самые 8891 человек, упомянутые в отчете комиссии 1930 года – относится лишь к нескольким первым месяцам существования поселения. Последние даты датированы 1947 годом, дальше ниточка обрывается.
Мраморный крест установили прямо на дороге, чуть севернее последнего на пути к Кулаю населенного пункта. Обнаружить хотя бы какое-то место массового захоронения, дабы соблюсти необходимые формальности, пытались долго. По логике вещей, за семнадцать лет поселение должно было обзавестись элементарным кладбищем. Но увы, бульдозер выворачивал из-под земли человеческие останки повсеместно. Видимо, живые просто не успевали хоронить умерших. Кулай так и останется сплошной могилой, теперь уже навсегда.